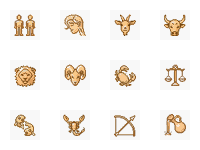Зарубежная литература: Стилистические особенности "Братья Карамазовы", Курсовая работа
- Категория: Зарубежная литература
- Тип: Курсовая работа
Введение
Оценивая творчество Гоголя, Достоевский сказал, что его произведения «давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли». Но, пожалуй, с еще большим правом мы можем отнести эти слова к романам, повестям, публицистике самого Достоевского. Самые главные, самые трудные – непосильные – вопросы поднимает он в своем творчестве, самыми беспокойными и беспокоящими мыслями пронизывает каждое свое произведение.
В Достоевском поражает не только сила изобразительности, не только напряженность конфликтов, драматизм катастрофически развивающихся событий, но и безмерная сила до предела напряженной мысли, бьющейся в событиях, поступках, столкновениях всегда незаурядных, всегда страстно размышляющих, страдающих, борющихся личностей.
Вызывает глубокое уважение и личность самого писателя, который столь обнажено, с такой душевной болью воспринимает социальные и нравственные конфликты современности, раскрывает духовные, и нравственные бездны человеческой души.
И в сегодняшнем мире тревожный набат Достоевского гудит, неумолчно взывая к человечности и гуманизму.
Глава 1. Социальные и психологические аспекты отражения действительности в романе «Братья Карамазовы»
«Братья Карамазовы» - итоговое произведение Достоевского, наиболее полно отразившее его мировоззрение последних лет жизни. Роман преломил духовную сущность художника в её сильных и слабых сторонах и представил его мысль в процессе неразрешимой внутренней борьбы, сомнения и отчаяния. Все те вопросы, которые волновали писателя на протяжении жизни, в нём были подняты с новой силой. Именно здесь ещё резче обозначились социальные и психологические аспекты отражения художником действительности. Достоевский ещё аз продемонстрировал свой необыкновенный дар: связать в органическое единство постановку самых отвлеченных философских проблем с самым конкретным изображением современной ему общественной жизни, с тонким проникновением в сокровенные глубины человеческой психологии.
Односторонняя оценка «Братьев Карамазовых» как «мистико-аскетического романа», данная ещё Антоновичем, или как «церковнического романа» не могла ни в какой мере отразить сущности этого последнего, наиболее сложного романа Достоевского, который рассматривается как самое философское произведение писателя.
Среди многообразия философских и нравственных проблем, поставленных в романе, важную роль играют вопросы гносеологии, познания. На это обратили в своё время внимание такие исследователи творчества Достоевского, как Лев Шестов, Д. Мережковский, привносящие, однако, идеалистические трактовки в толковании романов Достоевского.
Гносеологическим вопросом в «Братьях Карамазовых» посвятил свою работу Я. Э. Голосовкер. Характеризуя романы Достоевского как «трагедии ума», он выводит особенности их построения из толкования неразрешимых противоречий человеческого разума, стремящегося к познанию: «На фабульной сцене романов – трагедий Достоевского лишь потому остается столько трупов, что автор убивает не людей, а идеи». Отмечая заслуги исследователя в стремлении привлечь внимание к гносеологическим вопросам романа «Братья Карамазовы», нельзя не заметить некоторого преувеличения им значения одной стороны (философской) романа за счет невнимания к другим, не менее важным (социальной и психологической), в то время как всё это в романе так же органически слито, нерасторжимо, как и в прежних романах Достоевского. «Братья Карамазовы» - как справедливо пишет Н. М. Чирков, - наиболее завершенный у Достоевского синтез социального и психологического романа, является и полнейшим выражением так называемого философского романа». (7, с.234) В. Я. Кирпотин, отмечая признаки трагедии в романах Достоевского, которые он связывает, в частности, с особенностями героев Достоевского – героев-«преступников» «в философском смысле слова», носители идей и убеждений, находящихся в столкновении «с нравственным долгом и ещё более – с непреоборимой логикой реальной действительности», вместе с тем так же говорит о синтезе пластов в романах писателя: «У Достоевского был свой особый путь. Едва коснувшись политической стороны темы, Достоевский сразу же переводит её в сферу психологическую и философскую. Его герой подвергается необщественному, а нравственному суду».
Безусловно, в романе «Братья Карамазовы» «сшибка идей», - несущих в себе острые доводы pro и contra, сколько бы отвлеченными они ни казались на первый взгляд, - всегда затрагивает актуальнейшие социальные вопросы. И одновременно битва идей протекает в столкновении, и не редко трагическом, человеческой натурою, с самою тончайшею её психикой. Поэтому применительно к «Братьям Карамазовым» можно говорить об органическом синтезе социально-философского и социально-психологического в еденном синтетическом романе, вобравшем в себя также и определенные черты трагедии, (в той же мере, в какой следует говорить в отношении таких романов, как «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток»). В 60-70-х годах Достоевский разрабатывает один и тот же тип романа, поднимая его последним произведением на новую художественную высоту.
Из многообразия проблем «Братьев Карамазовых» «вечные» вопросы, связанные с будущим человека и человечества, с возможной небесной или земной гармонией и с возможностью для человеческого разума всё это познать – рассчитать и понять, занимают центральное место в романе и отражают, по мнению Достоевского, беспрерывный поиск истины молодым поколением. «Вся молодая Россия, - говорит Иван Карамазов своему брату в главе «Братья знакомятся», - только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует… «Како веруеши, али вовсе не веруеши» <…> О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца».(1.т.9.с.239) Иван Карамазов в наибольшей мере воплощает авторскую субъективность: главный вопрос, которым писатель мучился всю жизнь,- вопрос о существовании бога, равный вопросу о назначении человека.
Герои романа не только поднимает определенный круг вопросов, подлежащих познанию в первую очередь, но и намечает неразрывное единство чисто философских вопросов с вопросами социальными, связанными с «переделкою всего человечества». Можно проследить, как все «вековечные вопросы», сформулированные в pro и contra Ивана и Зосимы и занимающие особенно большое место в центральных главах романа, таких, как «Братья Карамазовы», «Бунт», «Великий инквизитор», «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», имели место не только в спорах, действиях и судьбах братьев Карамазовых, но захватили, чуть ли не с первых страниц романа почти всех действующих лиц, начиная со старика Федора Павловича Карамазова и включая таких подростков, как Коля Красоткин и Лиза Хохлакова.
Среди главнейших философских, в частности гносеологических, вопросов, а также нравственных и социальных выделяются такие, как: возможности и пределы человеческого разума в познании «тайн» жизни и смерти; возможность будущей гармонии – небесной или земной – и право на «возмездие» здесь, на земле; в чем истинная свобода человека, и нужна ли она ему; какова взаимосвязь свободы и необходимости (причинности); есть ли бог и бессмертие, какова нужда человека в них (оправдана ли формула: «Если бога нет, то его надо выдумать»); каковы свойства и возможности человеческой натуры; есть ли разница в любви к «человечеству» и в любви к «человеку», «ближнему»…
Большое место в их решении занимает кульминационная глава романа «Великий инквизитор» и главы, предшествующие ей. Основные понятия, сформулированные в таких словах, ставших символическими, в Легенде о великом инквизиторе, как «чудо», «тайна», «авторитет», пройдут через весь роман, соединяя его единой философской мыслью. Неправомерна трактовка Легенды только лишь с социологической точки зрения.
Человеческий ум говорит Иван Карамазов, - «эвклидовский», эмпирический, привыкший лишь к трем измерениям пространства. Поэтому он в познании требует, прежде всего, фактов, доказательств, проверки опытным путем. То, что за пределами этого, - постичь, познать невозможно. « Я ничего не понимаю, - говорит Иван Карамазов в главе «Бунт», - я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте…». В главе «Братья знакомятся» Иван говорит о невозможности познания эмпирическим, опытным путем, прежде всего того, что связано с идеей бесконечности жизни, бессмертия, бога, так как это не может быть представлено и проверено «фактом». Поэтому он и предлагает Алеше обратиться к тому, что постигаемо «фактом»» к видимому миру. Из видимого, наблюдаемого им мира он выделяет факты страданий людей, особенно детей, жестокости, несправедливости и видит в этом то единственное «чудо», которое не прямым, а косвенным путем служит доказательством отсутствия бога: человеческий ум может определенно доказать фактическим путем, что на земле нет присутствия справедливой руки бога, а следовательно, его нет и вообще.
О необходимости для человеческого познания факта как доказательства истины говорит и инквизитор в главе «Великий инквизитор». Напоминая заключенному в темницу Христу легенду об искушении дьяволом сына божия, инквизитор говорит о тех трех вопросах, в самом появлении которых заключалось «настоящее громовое чудо». Это были вопросы о требовании «чуда» от сына божия для доказательства его божественности; они были направлены на установление «истины», были важным этапом в познании. «И можно ли было, - восклицает инквизитор, - сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо «искушениями»?».
Первое «искушение» - предложение Христу обратить «камни в хлебы» заключало в себе не только мысль о необходимости удовлетворения материальной потребности людей и подчинении их себе путем материальной заинтересованности, но оно означало и важный акт на пути познания. Камни, превращенные в хлебы,- это было бы то «чудо», которое равно было бы «факту», доказательству; Христос доказал бы тогда истину своего существования, существования бога. Человеческий, говоря словами Ивана, «эвклидовский» ум, привыкший к доказательствам, «к трем измерениям» - вот причина того, что человек, как говорит инквизитор, «ищет не столько бога, сколько чудес».
Ошибка Христа, по мнению инквизитора, в том, что он не понял природы человеческого ума, он не понял, что человеку легче, привычнее подчиниться факту («чуду»), чем оставлять за собою свободу бездоказательного выбора. Последнее означало бы уже не истину, а выбор «на веру», то есть саму «веру». «Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение», (1, т.9, с.317) – высказывает инквизитор догадку о действиях Христа: Христос хотел любви к нему и веры в него без доказательств, без «чуда», так как полагал, что все это подавляла бы волю человека, делало бы его выбор «бесспорным», то есть несвободным. Инквизитор, со своей стороны, возражает ему: человеческий разум как раз стремится свести все, что он накапливает в своем познании, к «бесспорному» факту и потому стремится к опыту, к доказательству. Ему свойственно стремление подчиниться, уверовать в то, что «бесспорно», что уже доказано. «Приняв хлебы», то есть совершив «чудо» и тем самым доказав истину, Христос, по мнению инквизитора, «ответил бы на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества «вместе», - стремление, выработав всеобщую, «бесспорную» точку зрения, «преклониться», то есть подчиниться «факту», «бесспорной» истине, в которую, благодаря ее «бесспорности», можно «уверовать». Инквизитор делает вывод об ограниченной природе человека, в частности его «эвклидовского ума, привыкшего к трем измерениям»: «Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, по чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом». (1, т.9, с 319). Религиозные войны и крестовые походы означали, по мнению инквизитора, это неудержимое стремление человеческого разума к «бесспорности». Существование множества богов означало бы сомнение в истине, поэтому люди «взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами».
Христос, не поняв, по мнению инквизитора, этой природы человека и его ограниченного рамками «бесспорных» истин разума и надеясь на то, что человек «останется с богом, не нуждаясь в чуде», отверг, и другие две возможности совершить «чудо» и тем самым доказать свое существование – он не спрыгнул, как предлагал ему дьявол, с вершины храма и не сошел с креста, когда того требовала толпа, «издеваясь и дразня». Христос «не захотел поработить человека чудом, жаждал свободной веры, а не чудесной». Он «жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим».(1,т. 9, с. 321)
Законы познания истины о мире, боге распространяются, как считает Иван Карамазов, и на нравственные категории. Созданный его воображением великий инквизитор легко переходит в своем разговоре с Христом от проблемы познания истины о боге к вопросу познания человеком нравственных категорий добра и зла. И здесь человеческому разуму свойственно скорее стремление подчиниться «бесспорному» факту, чем свободно выбирать из «бездоказательных» возможностей одну возможность как истину. И хотя человек мечтает о безграничной свободе и даже своеволии в области нравственных поступков, хотя «нет ничего обольстительнее для человека как свобода его совести», вместе с тем «нет ничего и мучительнее». И человеческий разум жаждет «бесспорных», доказанных, «авторитетных» правил в познании добра и зла и стремится подчиниться этим готовым, сформулированным моральным нормам, и тогда «он даже бросит хлеб» и «пойдет за тем, который обольстит его совесть». «Вместо того чтоб овладеть людскою свободой,- упрекает инквизитор Христа, - ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека навеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою,- но неужели ты не подумал, что он отвергнет же, наконец, и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора?».
Созданный воображением героя великий инквизитор бьется над мыслью самого Ивана о свойствах человеческого ума, названного им «эвклидовским», ограниченного «тремя измерениями». Эту же мысль разрабатывает и другой «двойник» героя – черт – плод галлюцинаций больного Ивана. Черт повторяет мысль инквизитора и Христа о несовместимости истины, познанной через «факт», через материальное доказательство, с одной стороны, и веры до «опыта» - без «чуда», без подавления «фактом», доказательством, с другой.
Там, где уже не вера, а истина: «Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить». (1, т.10, с. 162) Для решения многих проблем «Братьев Карамазовых», в частности проблем гносеологических, значение образа черта огромно. Но не следует односторонне трактовать этого «двойника» лишь как выразителя дурной половины души и сознания Ивана. И хотя сам Иван, обращаясь к черту, говорит: «Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых» (1.т.10, с. 166), роль черта не ограничивается только этим: он дополняет, расширяет, варьирует отдельные положения, отнюдь не всегда «дурные» и «глупые», высказанные ранее Иваном и инквизитором.
В образе Ивана неразрывно слиты глубокая правда художника и предвзятость христианского моралиста. Личные сомнения Достоевского породили и отчаянное сомнение его героя. Иван одновременно и велик и жалок: велик как выразитель авторской бунтующей гуманистической мысли и жалок как мишень, выбранная для опровержения и поражения того же непокоренного духа бунтарства. Достоевский как будто решил вызвать страшного и гордого духа и победить его, но победа оказалась пирровой. Страшный дух – это личные сомнения писателя, и он казнит себя, опровергая своего героя.
Достоевский – художник использует два блестящих художественных приема: вводит рассказанную Иваном легенду о великом инквизиторе и черта – «кошмар Ивана Федоровича», чтобы, не нарушая художественной правды, показать глубину мучительных поисков истины Иваном, изобразить сложный мир душевных мечтаний своего героя.
Легенда о Великом инквизиторе, вместе с примыкающими к ней главами («Братья знакомятся», «Бунт»), образует тот композиционный центр, к которому сходятся основные нити романа, в том числе и тот круг вопросов, который символически намечен в Легенде словами: «чудо», «тайна», «авторитет». Напряженная композиция, где ярко выражены связи между завязкой, развитием действия, кульминацией, спадом действия и развязкой, роднит роман «Братья Карамазовы» с драматургическим родом поэзии.
О том, что кульминация романа связана с наивысшим напряжением социально-философской мысли, писал, как известно, и сам автор. Говоря о пятой книге «Братьев Карамазовых», Достоевский в письмах к Любимову от 30 апреля и 10 мая 1879 года называет её «кульминационной точкой романа», о том же он сообщал и Победоносцеву. Назвав пятую книгу романа «Pro и contra» (за и против), он поясняет в письмах смысл этого названия: в книге изображено «крайнее богохульство» и «зерно идей разрушения», «богохульство и опровержение богохульства». Достигая наибольшего трагизма, социально-философский спор двух сторон разворачивается в Легенде о великом инквизиторе, в которой он предстает как диспут Христа и духа сомнения и разрушения – дьявола, таким образом, приобретая символические отвлеченные формы. Но следует иметь в виду нерасторжимость философского, социального и психологического пластов романа и органическую реализацию их через сюжетную ткань произведения, а так же помнить, что психологическая драма Ивана, взаимосвязанная с его социально-философскими исканиями, еще будет нарастать. С каждым посещением Смердякова и разговором с ним после убийства Федора Павловича Карамазова драма в душе Ивана, становясь все напряженнее и трагичнее, лишь в одиннадцатой книге выливается в «кошмар» неразрешимых противоречий, который определит важный сюжетный поворот романа (выступление Ивана на суде), втянувший в новое действие многих героев (Митю, Грушеньку, Катерину Ивановну). Только сейчас они смогут наиболее полно выявить свои внутренние психологические и нравственные позиции.
Глава 2. «Великий инквизитор» - итог социальных и нравственных исканий героев
Еще в большей мере следует говорить постоянном нарастании душевной драмы Дмитрия Карамазова в главах, которые следуют значительно позднее главы «Великий инквизитор». А так как в сюжете романа образу Мити принадлежит главная роль, то драматизм и напряженность действия не спадают вплоть до девятой книги «Предварительное следствие». Здесь Достоевский, проведя душу Мити через «мытарства» (Гл. 3 – «Хождение души по мытарствам. Мытарство первое», гл. 4 – «Мытарство второе», гл. 5 – «Третье мытарство» и др., где Митя то мучится от мысли, что он убил слугу Григория, то вдруг признается, то вдруг признается, «что не только хотел, но и мог убить» отца Карамазова, то вдруг с надеждой кричит: «Но ведь не убил же его, ведь спас же меня ангел-хранитель мой… не убил, не убил»), доводит действие до острого драматизма в главе «Показание свидетелей. Дите». Страдания детей из рассказов Ивана Карамазова проникают и в душу Мити через плачущее «дите» из его символического сна. Сон Мити явился переломным моментом не только в развитии образа Дмитрия Карамазова, но и в развитии действия: мы узнаем теперь не только об убийстве Федора Павловича Карамазова, но и о согласии Мити взять на себя ложное обвинение («пострадать хочу и страданием очищусь!»). Таким образом, вслед за самыми напряженными «мытарствами» души Мити в этой главе наступает и развязка в развитии его образа. И если Ивану еще предстоит пройти через столкновение с «двойниками» - через три свидания с убийцей Смердяковым и через кошмарную беседу с чертом, - то сердце Мити, в котором «идеал мадонны» спорил с «идеалом содомским», уже сделало свой выбор любви, добра и самопожертвования.
Вернемся к мысли о Легенде о Великом инквизиторе как своеобразном центре романа, в котором с обобщающей силой выражены основная проблематика и драматизм произведения в целом.
Если в душе каждого героя борьба двух «правд», двух точек зрения все еще продолжает нарастать и после главы «Великий инквизитор», то столкновение самих этих двух решений вопроса в ней достигает наивысшего напряжения и носит уже итоговый характер (и в этом смысле глава предстает как кульминационная). Именно эту итоговость подчеркивает Иван в главе «Братья знакомятся», уже близко подводящей к Легенде. Назвав главнейшие «мировые» вопросы («есть ли бог, есть ли бессмертие», «о социализме и анархизме» - «все те же вопросы, только с другого конца»), Иван обращает внимание на недоговоренный, а подчас молчаливый «диспут», который происходил все это время между братьями: «Вот ведь к чему сводились ваши трехмесячные взгляды Алексей Федорович, ведь так?». Следуя затем «Бунт», непосредственно предваряющая «Великого инквизитора», еще более обнажает сущность спора между братьями и сущность «спора» в душе каждого из них. Наконец, в главе «Великий инквизитор» идеологическая борьба достигает наивысшей точки в «диспуте» дьявола и Христа из евангельской легенды и инквизитора и Христа – согласно сюжету, придуманному Иваном.
Глава «Великий инквизитор» поднимает на большую теоретическую высоту столкновение двух правд – бунтаря Ивана, не принимающего мира за его несправедливость, и старца Зосимы – проповедника всепрощающей любви, страдания и самопожертвования как единственного пути к нравственному совершенствованию. Но в этот спор писатель втягивает чуть не всех персонажей романа, поэтому глава «Великий инквизитор» подводит итог социально- философских и нравственных исканий не только таких ведущих героев романа, как братья Карамазовы или старец Зосима. Среди вопросов, захвативших идейные искания многих персонажей романа, вопросы познания занимают большое место и точно так же, как в поисках Ивана Карамазова, тесно связаны с решением социальных и нравственных проблем.
Глава 3. Идейные искания героев романа как решение социальных и нравственных проблем
Спор «идей» начинается с действия, которое можно назвать завязкой, так как в нем происходит встреча и знакомство большинства из главных героев (здесь встречаются все три брата Карамазовы, отец Карамазов и старец Зосима), но и дается заявка на то credo, которого каждый из них придерживается. Во второй книге, названной «Неуместное собрание», в келье старца Зосимы, где собралось все семейство Карамазовых и некоторые другие действующие лица романа, Федор Павлович Карамазов поднимает вопрос о боге и бессмертии. Он рассказывает, как «безбожник Дидерот к митрополиту Платону спорить о боге приходил»: «Я ваше преподобие, как философ Дидерот. Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот - философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине. Входит и прямо сразу: «Нет бога». Главу семейства Карамазовых в решении вопроса о боге и бессмертии волнуют прежде всего факты. Федор Павлович отрицает бессмертие с его либо раем, либо адом потому, что нет доказательств материальных, добытых опытным путем.
«Видишь ли, - объяснял он Алеше, - я об этом, как ни глуп, а все думаю, все думаю, изредка, разумеется, не все же ведь. Ведь невозможно, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них какая там есть? Ведь там в монастыре иконки, наверно, полагают, что в аде, например, есть потолок… Ну, а коли нет потолка, стало быть нет и крючьев» (1,т . 9, с. 34) Вопросы познания для Карамазова, как и для Ивана, важны не только для удовлетворения характерной для человеческого разума жажды познания, но и для решения нравственных вопросов. Для него тоже важно решить вопрос, есть ли возмездие (то есть справедливость) или нет: «Ну, а коли нет потолка, стало быть нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть и все по боку, значит опять невероятно: кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете?… потому что если бы ты знал, Алеша, какой я срамник!…».
Даже ему свойственно стремление к познанию истины, связанной с тайной смерти, и он советует Алеше, будучи в монастыре, «добраться до правды» и рассказать о ней ему: «Все же идти на тот свет будет легче, коли наверно знаешь, что там такое». Вопросы познания волнуют не только Ивана Карамазова и Федора Павловича, они становятся предметом рассуждений и Смердякова. Он тоже с неопровержимой логикой отрицает существование бога по тем же законам человеческого разума, о которых говорил инквизитор Христу.
«Когда страшный и премудрый дух» предлагал броситься Христу с вершин храма и доказать через «чудо» свою божественность (ибо сын божий «не упадет и не расшибется»), Христос, по словам инквизитора, не сделав этого, поступил «гордо и великолепно как бог», не желая искушать бога, потому что иссушение (требование «чуда») означало бы потерю веры. «И неужели, - упрекает инквизитор Христа, - ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение?».
Смердяков в третьей книге романа в главе «Контроверза» как бы иллюстрирует будущую мысль инквизитора о том, что людям не под силу «подобное искушение». В разговоре с Федором Павловичем, Алешей и слугой Григорием под одобрительные реплики своего духовного кумира Ивана Смердяков мотивирует свое возможное отречение от христианской веры и переход в веру магометанскую отсутствием «чуда» как «неотразимого факта», как доказательства существования бога: «Ведь коли бы я тогда веровал в самую истину, как веровать надлежит, то тогда действительно было бы грешно, если бы муки за свою веру не принял и в поганую Магометову веру перешел бы. Но ведь до мук и не дошло бы тогда-с, потому стоило бы мне в тот миг сказать сей горе: двинься и подави мучителя, то она бы двинулась и в тот же миг его придавила, как таракана, и пошел бы я как ни в чем не бывало прочь, воспевая и славя бога. А коли я именно в тот же самый момент это все и испробовал и нарочно уже кричал сей горе: подави сих мучителей, - а та не давила, то как же, скажите, я в то время не усомнился, да еще в такой страшный час смертного великого греха?». (1,т.9,с. 167) «Искушая», проверяя веру в гипотезу (бога), Смердяков предполагает испытанный метод познания – опыт, результатом которого должен явиться «неотразимый факт» («чудо»), если же опыт не даст ожидаемого результата, гипотеза (принимаемая «на веру») не подтвердился и отпадает («вера» разрушится).
Этой точке зрения противопоставлена в романе свободная вера Зосимы. «Но условий с богом не делайте», (1,т.9,с.206) – скажет поэтому поводу старец. Требование «чуда» как доказательства означает, с его точки зрения, торговую сделку, не допустимую в «вере». Вся жизненная практика Зосимы и даже смерть его служит примером отказа от «искушения», от требования «чуда» как «факта». Окружающие люди, однако,- повествует Достоевский в главе «Старцы» устами рассказчика,- «прямо говорили… что он святой, что в этом нет уже сомнения, и, предвидя близкую кончину его, ожидали немедленных даже чудес и великой славы в самом ближайшем будущем от почившего монастырю». (1,т. 9, с.41) «В чудесную силу старца верил беспрекословно и Алеша». (1,т. 9,с. 41) Но Зосима не оправдал надежды окружающих, тело оказалось тленным, и от покойника шел обыкновенный «тлетворный дух». Ожидание «чуда» как доказательства святости и разочарование после того, как ожидание (опыт) не дало результата, пережили не только окружающие, но и Алеша.
Иван вполне допускает как возможность, из которой можно исходить в споре, существование бога. Но он отбрасывает самую мысль о нем, потому что решить вопрос о его существовании невозможно, если человеческий ум не может опытным путем решить вопроса даже о двух параллельных линиях. «Я смиренно сознаюсь,- говорит он,- что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет бога, есть ли он, или нет? Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях».
Иван в споре о будущей гармонии «допускает» существование бога только лишь по формуле: даже если бы он и был на самом деле, я не принимаю учения о небесной гармонии, потому что мир, который при таком «допущении» создан богом, устроен несправедливо.
Как видим, вопросы гносеологии и их решение помогли Ивану, углубившемуся в изучение настоящего мира и его истории, обратиться к решению социальных и нравственных проблем, а познание социального мира, несправедливого и жесткого, помогло ему в решении вопросов гносеологических. Однако до проникновения человеческого ума в сокровенные тайны бытия было еще очень далеко.
О непознаваемости сущности вещей, связанных со смыслом бытия, с вопросами жизни и смерти, говорит и старец Зосима, хотя он в решении многих вопросов и выступает как антипод Ивана. Зосима раскрывал свои мысли в беседах с теми, кого мучили отвлеченные вопросы, он сформулировал их в своем завещании – поучении. «На земле же воистину мы как бы блуждаем… Многое на земле от нас скрыто… - признаем он ограниченность человеческого разума. – Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле». (1,т. 9, с. 401).
Как видим, Достоевский наделяет мыслями об ограниченности человеческого разума в познании не только бунтаря – атеиста Ивана, рассматривающего «весь обидный комизм человеческих противоречий» как «гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума», но и его антипода религиозного Зосиму, согласного с философами в том, «что сущности вещей нельзя постичь на земле».
Сам писатель указывавший и в письмах на свое желание устами Зосимы опровергнуть «богохульство» Ивана, вложил многие свои сомнения и представления не только в рассуждения Зосимы и его ученика Алеши, но и в размышления Ивана Карамазова. В этом смысле можно согласиться с Ю. Г. Кудрявцевым, который пишет: «Противоречивую позицию писателя выражают Раскольников – Соня, Иван – Алеша. Они – попытка найти метод искоренения Лужиных и Карамазовых. Они даны вместе потому, что автор, их породивший, не нашел одного правильного метода. Поэтому герои, хотя внешне и свободны от тенденциозности автора, в совокупности они и есть сам автор. Короче говоря, Достоевский – это не Иван Карамазов. Достоевский – это не Алеша Карамазов. Иван плюс Алеша – это и есть Достоевский». (6, с. 11) Наверное, из этого следует что в Иване Карамазове Достоевский принимает не все, а лишь то, что связано с его благородным негодованием против мерзостей жизни, с порывами его ищущего ума; с его беспокойной «совестью». Многое же другое, и прежде всего теоретическое обоснование безграничного своеволия, допускающего нарушение законов «совести», опровергается им всеми художественными средствами романа так же, как это было и в «Преступлении и наказании».
Мысль самого художника об относительности нашего познания мира, об ограниченности нашего проникновения в его сущность находит отражение, как считает Д. С. Лихачев, в самом характере отображения им объективной действительности: «Устремляясь к действительности и стремясь к конкретному ее воплощению, Достоевский остро ощущал «независимость» существования мира и крайнюю относительность его познания. Относителен, конечно, не самый мир, напротив, мир до ужаса реален и абсолютен,- относительны методы его познания, и это познание не может быть отделено от способов, которыми оно ведется. Поэтому-то и надо сообщать читателю о всех приемах, которыми эти сведения получены, об их ничтожности и недостоверности». «Познание,- выражает ученый мысль Достоевского,- лишь дает возможность приблизиться к миру, поэтому нужны разные приемы приближения и проникновения в него: многосторонние поиски действительности, Страстные порывы к реальному». В этом плане – обусловленности приемов стиля взглядами художника на характер познания мира – интересна сцена свидания Ивана с чертом. Желая как можно глубже проникнуть в сущность интеллектуальных и психологических страданий своего героя, Достоевский изображает такое фантастическое явление, как визит черта, «до ужаса реально», что для него является важной ступенью на пути познания, в стремлении приблизиться к миру».
Для определения психологического состояния Ивана писатель считает важным сделать от рассказчика экскурс в характер заболевания героя («я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича читателю»). Он считает так же важным зафиксировать понимание Иваном того, что черт – это всего лишь призрак («Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак… Ты моя галлюцинация»), и вместе с тем материализовать, так сказать, «опредметить» этот «признак», чтобы создать не менее реальный, чем образ самого Ивана; образ его «двойника», уточняющего его «идеи», расширяющего их содержание, доводящего их в определенных пунктах до логического конца. В связи с такой задачей художник словами рассказчика рисует слишком подробный, подчеркнуто бытовой, будничный вид черта: «Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил <…> длинный галстук в виде шарфа, все было так, как и у всех шиковатых джентльменов».
Ясно, что рассказчик здесь мог зафиксировать внимание и наблюдательность самого Ивана, в поле зрения которого, при необычности ночного визита, попадали самые мельчайшие подробности внешнего реального мира. И это не только точно описанные симптомы болезни. Это вместе с тем и отражение мысли художника о том, что постигаем мы лишь «до ужаса реальные» детали внешнего мира при необыкновенной трудности и ограниченности возможности проникновения в его сущность. Именно с этим столь намеренно «опредмеченным» «джентльменом» предстояло Ивану обсудить трагедию своих не увенчавшихся успехом поисков истины.
Диалектику человеческого познания Достоевский символически выражает такими словами – понятиями, как «чудо» и «тайна». Если «чудо» выполняет функцию «факта», доказательства и соответствует требованию «эвклидовского» ума, то «тайна» как раз раскрывает то, что не поддается такому методу познания и такому складу мышления. Она связана с теми вопросами, которые касаются ничем не измеримой бесконечности бытия.
Не в состоянии постичь то, что скрыто, человек, по мысли Достоевского, страстно стремится к сокрытому как непостижимому, но крайне необходимому идеалу, так как только он может оправдать как конечность человеческой жизни, так и ту несправедливость, которая ей сопутствует. Так проблема из гносеологической переходит в нравственную: человеку мало знать причины бытия, ему нужно еще его оправдание. «Человек жив не единым хлебом»- это формула не одного Христа из Легенды, это убеждение и самого инквизитора. Именно поэтому он и хранит глубоко в себе страшную «тайну» о конечности человеческой жизни, об отсутствии будущей небесной гармонии с ее «возмездием», справедливостью, c оправданием земной жизни человека. Проклятие, муки познания он взял целиком на себя, чтобы не лишать миллионы людей смысла их существования, их мечты, идеала.
Необходимость того, что стоит за «тайной», как и требование «чуда» как доказательства,- этот мотив проходит через весь роман, начиная с завязки в келье старца, где Зосима угадал в душе Ивана «тайну» будущего инквизитора из Легенды и обратил внимание Ивана на его внутренние противоречия. Глубоко проникая в действие романа, эта мысль – причина не только трагедии инквизитора, она приводит к страшной трагедии и Ивана. Он не мог просто «остаться при факте»: требование иной, высшей духовной «правды» приводит его к признанию своей вины за мерзости жизни и к горячке.
Доказательством той истины, что не одним хлебом бывает жив человек, служит в романе судьба и драма Мити Карамазова, Грушеньки, а так же жизненные судьбы и многих других героев романа «Братья Карамазовы». В Легенде инквизитор как бы поводит итог тех драм и трагедий, в водоворот которых уже ввергла и еще ввергнет героев романа неудовлетворенность фактами бытия и неудержимое стремление познать и обрести смысл и оправдание своего существования. «Ибо,- говорит инквизитор, соглашаясь в этом вопросе со своим оппонентом Христом,- тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы». (1,т. 9,с. 320).
Сцена свидания с чертом (глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича») имеет большое значение в романе для раскрытия, в частности, того смысла, который был связан с «тайной» инквизитора, а вся глава, как уже говорилось выше, тесно связана с главой «Великий инквизитор», хотя между ними в развитии действия произошли большие трагические события (убийство Федора Павловича, переломный в духовном развитии Мити символический сон, надрывные для Ивана три свидания и беседы со Смердяковым). В новой главе Достоевский еще раз возвращается к главнейшим положениям философского и нравственного диспута, используя при этом аргументацию и последних событий.
«Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, - говорит черт, - я определен «отрицать», между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен.… Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна» - то эта переходила через «горнило сомнений»…».
Вспомним, что Достоевскому самому были близки и поняты такие сомнения. Об этом он писал еще в 1854 году Н. Ф. Фонвизиной: «Я скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения…» Эта мысль писателя нашла отражение и в более позднее время – в частности, в его записных книжках. Говоря об исканиях мысли Ивана и инквизитора, о большой силе их «отрицания бога» и отвечая тем, кто «дразнил» его «необразованною и ретроградною верою в бога», Достоевский сообщает о самом себе, о своих собственных сомнениях, о большой «силе отрицания», через которые он прошел, и даже прибегает к терминологии черта. «И в Европе – пишет он, - такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, том же романе, черт».
Из этих высказываний писателя не следует, конечно, делать вывода об отрицании бога самим Достоевским. Не случайно он подчеркивает, что нельзя его «дразнить» «необразованною» верою: он обращает внимание на то, что хорошо изучил, познал и сам испытал все атеистические сомнения, прежде чем провозгласил свою «осанну». Недаром он, обращая свои записи к Кавелину, говорит о достаточном уровне своего философского образования: «В виду этих глав (речь идет о таких главах, как «Великий инквизитор» и «Бунт».) вы бы могли отнестись ко мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность». О борьбе двух начал в душе Ивана, о нерешенности им главнейших, мучивших его вопросов и о страданиях его разума и сердца говорят Ивану Алеша и Зосима. «Идея эта еще не решена в вашем сердце и мучает его… - говорит ему старец в самом начале романа, при завязке действия. – В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения…».
Не случайно совершает и Алеша, по выражению Ивана, «литературное воровство» - целует брата в кульминационной главе «Великий инквизитор», как это сделал, Христос в отношении инквизитора из сочиненной Иваном Легенды: Алеша преклонился перед тем его «великим горем», связанным с сомнениями и поисками истины, которое в начале романа разгадал в нем Зосима. «Горнило сомнений» и страстное желание «осанны», веры в идеал и светлое будущее отмечает Алеша в брате к концу романа, уже после трагических событий, имевших место в развитии действия: он пытается, в частности, отделить Ивана от его «двойников» - от Смердякова («Брат… удержись: не ты убил. Это неправда!) и от черта («Ну и пусть его, брось его, забудь о нем! Пусть он унесет с собой все, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходит!») (1,т. 10,с. 184). О муках сомнений напоминает Ивану и черт: «Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия – это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься».
С понятием «тайна», символизирующем в романе как стремление человеческого разума к познанию непостижимого, так и страстное желание человека приобщиться к идеалу, тесно связано понятие «авторитета». Инквизитор трактует «авторитет» как необходимый фактор на пути отказа человека от своей свободы, ибо, говорит он, «ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы». (1,т. 9,с. 317). Это его заявление соответствовало общей социальной концепции Ивана, который, как и Раскольников, делил людей на меньшинство избранных, сильных, призванных сказать новое слово в истории и вести за собой послушную массу, и большинство обыкновенных и слабых, для которых необходим «авторитет» и сила («меч кесаря») избранных. Последнее, по его мнению, должны взять на себя не только мучительное бремя познания, но и бремя свободы, и масса будет считать их «за богов», за то, что они, «став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать…» (1,т. 9,с. 318-319). Инквизитор упрекает Христа в том, что тот переоценил природу человека и вместо того, чтобы «заставить преклониться», отказался от этого «во имя свободы и хлеба небесного».
Достоевский через весь роман проводит мысль об авторитете и боге как вполне земной природе человеческого разума и сердца. Именно поэтому, наряду с авторитетом инквизитора, допускающим насилие, Достоевский выдвигает авторитет Зосимы, соответствующий, по мнению Алеши, природе народного характера, ищущего идеал, перед которым можно добровольно преклониться; «для смиреной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное всегдашнею несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему…».
Через вольтеровскую формулу (если бога нет, то его надо выдумать), связанную с познанием бесконечного, а также с оправданием человеческого существования – с надеждой на возмездие и справедливость, Иван и созданный его воображением инквизитор приходят к мысли о необходимости «тайны», обмана. Истину о конечности человеческой жизни, об отсутствии будущей небесной гармонии с ее справедливостью и возмездием познают, по мнению инквизитора, лишь избранные, критически мыслящие личности, которые берут страшное страдание – от этого бремени познания – на себя, хранят эту «тайну», чтобы не лишить миллионы людей их надежды и счастья, но требуют взамен подчинения своей воле, как воле тех, кому присуща мудрость познавшего. Своего инквизитора Иван относит к категории «страдальцев, мучимых великой скорбью и любящих человечество».
Однако понимание Достоевским трагедии Ивана и инквизитора не означает принятия писателем такой «тайны» иллюзорного, обманного счастья для людей. Сомнения в правоте своей идеи ощущает и сам инквизитор. В Легенде в ответе за упреки инквизитора Христос молчит, и для инквизитора «тяжело его молчание». Когда же Христос молча и тихо его целует, «старик вздрагивает». «Что-то шевельнулось в концах губ его», он открывает дверь темницы и выпускает пленника. «Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее», - заканчивает свою Легенду о великом инквизиторе и его пленнике Христе Иван Карамазов.
Этой «тайне» инквизитора противопоставлена «тайна» земли и вселенной, великая «тайна» жизни и радости слияния с нею, та радость познания, которую ощутил Алеша после встречи с Грушенькой, которая « подала луковку» - сделала доброе дело, успокоив его после смерти Зосимы своей человечностью, воскресила его душу, потрясенную «тлетворным духом» - несбывшимся «чудом». И вот теперь душа его готова была слиться с вселенной и принять ее как «тайну»: «С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною…». Такое познание – соприкосновение с «тайной» бытия – укрепило Алешу на его «подвиг». Но это иной, чем у инквизитора, «подвиг». Вместо обмана и насилия над волею массы ради ее иллюзорного счастья Алеша решил покинуть монастырь, чтобы, «пребывая в миру», проповедовать идеи любви и добра. «Пал он на землю слабым юношей, - говорит о нем Достоевский устами рассказчика, - а встал твердым на всю жизнь бойцом и осознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга». (1,т. 9,с. 452). «Подвиг» Алеши был ближе самому Достоевскому, так как соответствовал его идеалам просветительства и нравственного совершенствования.
Что же касается конкретного социального содержания «бунта» Ивана Карамазова, то о нем писал, как известно, и сам Достоевский, называя его убеждения «синтезом современного русского анархизма», «Отрицание не бога, - пояснил Достоевский в письме к Любимову от 10 мая 1879 года, - а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания смысла исторической действительности и дошел до программы разрушения и анархизма». Достоевский далее говорит об искренности и неопровержимой аргументации «бунта» Ивана Карамазова: «Основные анархисты были, во многих случаях, люди искренно убежденные. Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую: бессмыслицу страдания детей и выводит из нее абсурд всей исторической действительности».
В важности намерений своего брата не сомневается Алеша. «Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремиться к какой-то цели, может быть очень трудной, так что ему не до того… Он совершенно знал, что брат его атеист». (1,т. 9,с. 43).
Достоевский постоянно подчеркивает конкретно-социальную обусловленность «бунта» Ивана, даже в самых, казалось бы, отвлеченных вопросах (о боге, бессмертии небесной гармонии и т. п.). «Мне надо возмездие, - заявляет он, - иначе ведь я истреблю себя». (1,т. 9,с. 306). «Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажите мне, пожалуйста?». «Я спешу взять свои меры… а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «боженьке!». Ивану не нужно ни ада, ни рая, он хочет возмездия на земле, а не на небе, он не хочет, чтобы мать ребенка, растерзанного псами по велению помещика, простила ему его злодеяние («не смеет она прощать ему!»). От картин реальной земной жизни с ее социальной несправедливостью Иван переходит к мысли о возможной небесной гармонии и отвергает ее: «Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу». (1,т. 9,с. 307). «А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно… Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю».
Таким образом, отказ Ивана от небесной гармонии, как не оправдывающей земные слезы людей, подкреплен конкретными фактами несправедливой социальной действительности.
«Бунтарь» - философ, созданный Достоевским, все свои философские построения сводит к одному: он не принимает мир в том виде, в каком он, пред ним предстал, и хочет его изменить, хочет возмездия здесь, на Земле. Однако, как известно, Иван Карамазов не находит настоящего пути к изменению мира: выдвинутые им теоретические положения и «допущения» на практике заводят его в такой же тупик, как и Раскольникова.
В противоречие опять вступило прежде всего несоответствие целей средствам. Болея, как и Раскольников, за страдания детей, Иван несправедлив в то же время к людям. Большинство из них он относит к категории слабосильных, готовых отдать свою свободу и судьбу на суд меньшинства избранных – новаторов, сильных волею и познанием, призванных вести массу за собой. Для этих, взявших бремя познания и ответственности, он, как и Раскольников, создает неписаные законы, разрешающие по формуле «все позволено» переступить через любые нравственные законы и преграды, не только выработанные в течение веков существования человеческого общества, но и вытекающие из самой природы человека как высокоразвитого существа.
Со всей страстью Достоевский-художник ниспровергает идеи крайнего индивидуализма. Развенчания идей индивидуализма, к которому как к средству прибегает запутавшийся в противоречиях Иван Карамазов, идет в основном по тем же моментам, что и в предыдущих романах Достоевского: во-первых, диспут идей, в который по воле автора втянуты герои. Диспут не только «внешний», но и внутренний. Внутренний спор Ивана, его сомнения, муки не только в Легенде о Великом инквизиторе, но и в сценах с чертом, созданным воображением Ивана. Именно он, изложив поэмку «Геологический переворот» и напомнив Ивану его философское обоснование формулы «все позволено», насмешливо обнажает ее циническую сущность: если «мошенничать», то зачем «санкция истины».
«Ад в груди и в голове» Ивана пытается смирить и Алеша, напоминая ему о том, что требует к себе любви: «А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь?». (1,т. 9,с.330). По центральным пунктам идет «диспут» - заочный – между Иваном и Зосимой. Это касается, в частности, и проблемы любви к «ближнему»: Считая, что любить «ближнего» невозможно, Иван, вместе с тем, разделяет такие понятия, как «человек» и «человечество». (1,т. 9,с. 296). Точка зрения самого Достоевского была высказана им со всей определенностью: «Кто слишком любит человечество вообще, тот, большею частью, мало способен любить человека в частности». В романе авторский «голос» звучит в словах старца Зосимы. Предваряя снова Ивана, Достоевский в начале романа приводит разговор на эту тему Зосимы с госпожой Хохлаковой, которая тоже любит «человечество». Зосима же показывает ей бесплодность такой абстрактной любви. В суждениях и делах старца Достоевский не раз подчеркивает реальную основу его любви к человеку как таковому, а не к понятию «человечество». «Диспут» по разным пунктам проходит через весь роман.
Второй художественный прием, как и в других романах, сводится к столкновению «идеи» Ивана с его натурою. Натура Ивана определила важный пункт в его теории – благородную конечную цель: желание переустройства социального мира, не принимаемого ввиду его несправедливости. Но справедливый «бунт» осуществляется «инквизиторскими» средствами, отчего и сама цель приняла уродливые формы. И натура Ивана «не выдерживает» того в его «идее», что является античеловеческим. Так взаимодействуют главнейшие аспекты романа: философский (проблемы познания, этики), социальный (мир и цели и средства его переустройства) и психологический (все искания разума неразрывно связаны с человеческими драмами, а критерием истинности «идей» служит такая излюбленная для Достоевского «проба», как натура человека).
Мучения Ивана, усугубляемые от свидания к свиданию со Смердяковым, достигают своего апогея в кошмарную ночь накануне суда. Рассказывая Алеше о визите черта и жалуясь на то, что тот «дразнил» его, Иван вспоминает главное противоречие в своей идее, о котором напомнил ему черт, - отрицание совести для тех, кому «все позволено», и – в то же время – его внутренние мучения: «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем, же я мучаюсь?». (1,т. 10,с. 184). «Он меня трусом назвал, Алеша!.. «Не таким орлам воспарять над землей!» Это он прибавил, это он прибавил! И Смердяков это же говорил». (1,т. 10,с. 186). На словах Иван санкционировал преступление - возможное убийство Митей Федора Павловича («Один гад съест другу гадину, обоим туда и дорога».) (1,т. 9,с. 179). и не стал препятствовать этому, хотя и оценил свое поведение фразой: «Я подлец». Однако натура, как выразился еще Порфирий Петрович, «подвела» и довела Ивана до страшных внутренних мучений, до горячки.
О том, как натура Ивана вступила в борьбу против некоторых пунктов его идеи, говорит и такой интересный эпизод, как встреча его на пути к Смердякову с пьяным «мужчинкой», которого «ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком», и «он бешено оттолкнул его», равнодушно подумав: «Замерзнет!». Последний разговор со Смердяковым раскрыл, однако, перед ним неопровержимо тот факт, что вместе с истинным убийцей он несет ответственность за преступление («Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил», - сказал ему Смердяков в это последнее их свидание). Человеческая природа Ивана протестует против того, что логически вполне закономерно «прилипло» к его «идее»: против «низкой» практики, оказавшейся грязной и античеловеческой. Именно после этого начинается освобождение Ивана от смердяковщины. На обратном пути, возвращаясь от Смердякова, Иван был уже на грани духовного кризиса: «Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим все последнее время!». (1,т. 10,с. 158). Символически это отражено в повторении эпизода: потрясенный Иван вновь наталкивается на того же «мужичонку», но теперь он его несет на себе, чтобы оказать ему помощь, чтобы спасти… Тяготевший к многозначительным сценам, приобретающим подчас значение символа, Достоевский-художник таким приемом своеобразных сюжетных параллелей помогает читателю глубже проникнуть во внутреннюю, психологическую область жизни героя в душе которого человеческое начало постепенно приобретает все большие права.
Глава.4 Двойничество как философская категория
И наконец, в «Братьях Карамазовых», как и в «Преступлении и наказании», Достоевский использует такой художественный прием, как «двойничество». Обращение к внутреннему миру героя, к глубокому познанию его психики происходит через феномен двойничества. Писатель показывает, как под влиянием бездушного общества, дисгармонической действительности сознание человека не выдерживает и вследствие этого раздваивается, порождая на свет своего двойника, полную противоположность себе самому.
Раздвоение внутреннего мира Ивана Карамазова состоит в несовпадении образа героя с идеей, которой он одержим. Его идея заключается в отрицании общепринятых законов нравственности, в провозглашении закона свободного желания личности. Откинул законы божьи, Иван создает свои законы. Его идея материализуется в образе черта, она воплощает темные стороны его души, в то же время как противоположное идее начало есть настоящая основа его личности. Атеизм Ивана Карамазова – это неверие отчаявшегося человека. «Я не бога не принимаю…, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться никак» - его кредо.
О страданиях стремящегося к познанию человеческого разума, в муках проходящего через горнило сомнений и отрицания, говорит в романе «двойник» Ивана Карамазова – черт: «Моя мечта это – воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал – войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так. Тогда предел моим страданиям».
Рассказанная чертом легенда об ученом философе, познавшем истину после смерти и пропевшим «осанну», перекликается с «тайной» инквизитора. Однако, по мысли Ивана, путь к вере должен лежать через муки сомнений и отрицаний.
Таким образом, Достоевский переводит спор философский в остро социальный, и наоборот. Проблемы познания в его романе соотнесены с вопросами нравственности, спор идей происходит на фоне глубочайших по своей психологической и трагической основе человеческих драм. В романе «Братья Карамазовы» можно выделить два разных сочетания художественных образов из области «двойничества». Первое сочетание – Иван и черт – углубляет, драматизирует и психологизирует внутренние противоречия разума и сердца Ивана (эту же функцию в значительной степени выполняет и сочетание Иван – инквизитор).
Второе сочетание – Иван и Смердяков – выполняет иную функцию: оно выводит «идею» Ивана за пределы его внутренних противоречий и объективирует ее в художественном образе иного социального ряда, доводя ее тем самым до логически возможного конца. Именно мещанская среда Смердякова, воспитанника циника Федора Павловича Карамазова, стала благодатной почвой для формулы крайнего индивидуализма «все позволено». Именно Смердяков, как и глава семейства Карамазовых, по своей социальной сущности был готов воспринять и реализовать на практике из этой выстраданной формулы Ивана, как и из других его социально- философских выводов, то, что черт насмешливо назвал «мошенничеством» под прикрытием «санкции истины».
Смердяков, не только не имеющий никакой связи с народом, но и не чувствующий никакой ответственности перед ним, все свои мечты обиженного завистника сосредоточил на осуществлении плана утверждения своего личного, эгоистичного «я». Мечты о приобретении денег и об открытии в Москве или где-нибудь в Европе своего личного предприятия как нельзя лучше отражают характер социальной подоплеки «философии» индивидуализма Смердякова – циничной «борьбы за существование». Для последней и нужна Смердякову «философия» (чтобы «смошенничать»), и ему приятно получать от кумира – Ивана Карамазова – такую «санкцию истины». Вот почему Смердяков, как и Федор Павлович, живо интересуются такими вопросами, как бессмертие, вечная небесная гармония, его интересует идея бога и т. п. Это он в ответ на подшучивание Федора Павловича о возможном поджаривании в аду, «как баранины», за грехи перефразирует по-своему слова Ивана: «Насчет баранины это не так-с, да и ничего там не будет-с да и не должно быть такого, если по всей справедливости».
Если Иван отрицает небесное возмездие потому, что считает справедливее возмездие земное для таких, как помещик, затравивший псами ребенка, то Смердяков видит в этом удобное, «по всей справедливости», оправдание жизненной практики по формуле «все позволено». При этом Смердяков не прочь пококетничать и рассуждением в духе Ивана и инквизитора о допустимости противоречия между конечной целью и средствами ее достижения. Говоря о солдате-христианине, подвергнувшемся в плену мучениям за свою веру и не отказавшемся от нее, Смердяков подводит философский фундамент к оправданию другого варианта: отказа от своей веры. И это звучит в его устах как многозначительное обобщение его жизненного кредо («все средства хороши для достижения цели»): «…не было бы греха и в том, - говорит он, - если и отказаться при этой случайности от Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие».
«Добрые дела» и цели – это лишь фраза Смердякова. На самом деле и цель и средства у него едины, как и у Лужина в «Преступлении и наказании»: цели его эгоистичны, и им вполне соответствуют выбор «средств». Никаких мыслей и чувств, связанных с страданием народа и человечества, кроме своей собственной обиды за свое происхождение от Лизы Смердящей и неравноправное положение среди братьев Карамазовых, у него нет. Наоборот, презрение к народу («Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь?») и ненависть к России («я всю Россию ненавижу…») становятся питательной почвой для его эгоизма и его программы: «Была такая прежняя мысль-с, - говорит он Ивану во время их последнего свидания,- что с такими деньгами жизнь начну, в Москве, али пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще все потому, что «все позволено». Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, и да не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так и рассудил». Если для Ивана, как и для Раскольникова, возможное преступление – прежде всего проверка «идеи», оправдывающей любые средства на пути к высокой цели, то для Смердякова убийство, которое он совершил, явилось целью и средством: убив Федора Павловича и забрав три тысячи, он таким образом сделал более реальный свою мечту о особенном кафе-ресторане в Москве, на Петровке, а может быть, даже где-то в Европе, о котором он мечтал, изучая «французские вокабулы». Правда, элемент личного расчета и выгоды где-то глубоко в тайниках души был у Ивана, на что указал ему впоследствии Смердяков и что, в свою очередь, увеличивало угрызения совести Ивана, но не это было для него главным.
Показав антигуманность некоторых пунктов «идеи» Ивана на примере практики Смердякова, «скомпрометировавшей» ее, художник тем самым дал возможность своему «бунтарю» - философу пересмотреть свою теорию, чем и поверг его разум и сердце в страшное смятение, в пучину мучительного сознания вины за преступление Смердякова, вылившееся на практике в самое циничное и грязное уголовное дело. Если, думает теперь Иван, он не сумеет изжить в своем разуме все то, что невидимыми нитями связано с преступлением Смердякова – все пагубные пункты своей идеи, - то «не стоит и жить».
Глава 5. Отражение драмы Ивана в судьбах других
Драма Ивана в разной степени отразилась и в судьбах других персонажей романа, и прежде всего Дмитрия Карамазова. Еще в самом начале романа во время беседы в келье старца, Митя сделал для себя вывод из слов Петра Александровича Миусова, который цитировал слова Ивана о последствиях для нравственности познания человеком «истины» об отсутствии бессмертия: «Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь… тогда ничего уже не будет безнравственного, даже антропофагия». Далее Миусов напомнил слова Ивана о том, что «нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему» и что злодейство будет вполне дозволено и признано «самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом» для неверующего в бессмертие. Повторив эту мысль, Митя сказал: «Запомню…» «Все посмотрели на него с любопытством»(1,т.9,с. 90-91), - подчеркивает Достоевский.
Так, с усвоения определенных пунктов «идеи» Ивана началась в романе трудная судьба Мити Карамазова. Сам Митя скажет впоследствии о противоречиях в душах таких, как он: «идеал мадонны» с «идеалом содомским» борется, «а поле битвы – сердца людей». В трудные минуты «идеал мадонны» берет верх в сердце Мити, и он, оправдывая надежды не только Алеши и Зосимы, но и их творца – Достоевского на возможность нравственного совершенствования людей, согласился принять «муки обвинения», чтобы «страданием очиститься».
Однако «очищение страданием» ведет Митю, по воле и мысли автора, не к аскетизму и не к устремлению к богу, а к сознанию своей вины перед народом за мерзости свои, своего отца и своего класса. Сон напоминает ему о страданиях крестьян, о том, что плачет их «дите». Боль Ивана Карамазова за страдания детей, поднимающая его «бунт» на такую высоту человечности, перед которой меркнут все его формулы крайнего индивидуализма, - та же боль рождает теперь и в сознании Мити вопрос: «Почем бедны люди, почему бедно дите?». Способность чувствовать народное горе – вот высший критерий нравственности, по мысли Достоевского. «Позовите серые зипуны», - говорил он еще в «Дневнике писателя», - и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду».
Боль за людские страдания и желание их пресечь сближает в финале всех трех братьев Карамазовых, сколь бы различны ни были их судьбы и конкретные планы на будущее. Выбрал свой путь «страдания за всех» Митя. Наставником детей, клянущихся на могиле Илюшечки послужить народу и человечеству, мы видим в финале Алешу. Изживающим в себе все то, что послужило основой преступления Смердякова, но не отказавшимся от благородной идеи «бунта», предстает в финальной сцене суда Иван Карамазов. Подобно Раскольникову, он идет к судьям, чтобы доказать свою вину и предать себя в их руки не потому, что отказался от идеи «бунта», и не потому, что считает справедливым жить Федору Павловичу до старости и творить мерзости, а Илюшечке Снегиреву умереть в нужде в свои девять лет, - точно так же как для Раскольникова не было сомнения в том, кому жить, а кому умереть: подлецу Лужину жить или Катерине Ивановне, умирающей от нужды и чахотки и оставляющей на произвол судьбы своих маленьких детей. Как и Раскольников, он идет на суд потому, что дальше не может выносить тех внутренних мучений, которые явились последствием его стремления поставить себя «по ту сторону» человеческого общества и его «добра и зла». Он, как и Раскольников, пережил крах своих идей крайнего индивидуализма, но понял, что не «все позволено», что есть неписаные законы, переступить через которые не может никто, пока он человек.
Но внутренние мучения и крах определенных пунктов «идеи» Ивана не означали его примирения с несправедливо устроенным обществом. Алеша ошибся, когда после разговора с братом накануне суда подумал о нем: «Бог, которому он не верил, и правда его одолевали сердце, все еще хотевшее подчиниться, но он пойдет и покажет! Бог победит!». (1,т.10, с.186). Иван действительно «пошел и показал» на суде в пользу Мити, обвиняя не только Смердякова, но и себя. Однако это показание не привело его к христианской любви с ее всепрощением. Обвиняя себя, он не прощает и продолжает обвинять и «бунтовать» против ханжества, лицемерия; тайных и явных, облеченных в рамки закона повсеместных преступлений в так называемой благородном привилегированном обществе: так в романе Достоевского «Братья Карамазовы» осуществляется взаимопроникновение философского, социального и психологического пластов, образующих органическое единство жанровых признаков социально-философского и социально-психологического романов и организующих сложную структуру романа Достоевского как синтетического жанра.
роман нравственный социальный карамазов
Заключение
Ф. М. Достоевский видит своё предназначение в том, чтобы указать человечеству выход из царства наживы, эгоизма, взаимной вражды. Но мысль его бьётся в тисках неразрешимых противоречий.
Проникнуть в смятенную душу современного человека, понять себя и других, чтобы указать людям путь, ведущий к достижению идеала, - вот к чему стремится великий гуманист. Тонкий психолог, он пристально изучает внутренний мир людей, живущих в ненормально устроенном обществе, обнажает глубины человеческой души, изображая пейзаж, трагические заблуждения больного сознания.
На страницах романа воспроизводится стремительный поток мыслей героев, вскрываются мотивы их поступков. Каждый из братьев Карамазовых воплощает собой и проверяет свою «идею». Все вместе они, словно зеркала, отражают друг друга, в чём-то повторяют, в чём-то противостоят друг другу.
Глава «Pro и contra» - кульминация конфликта идей в романе. Сомнения мучают героев Достоевского, как и самого автора.
Бунт против религии, против мира, где «дитё плачет, где льются слёзы», это бунт не только одного из главных персонажей романа, Ивана Карамазова, но и самого Достоевского. Дух противоречия, сомнения терзает и поборника христианской любви, смирения и всепрощения Алёшу Карамазова.
В центре внимания романиста – искания «русских мальчиков», пытающихся разобраться в «предвечных вопросах, о которых толкует вся молодая Россия».
Весь строй голосов романа подводит нас к выводу, что автор усматривает правду о мире в позиции старца Зосимы, его ученика Алёши, «русских мальчиков» и всех тех героев романа, кто готов беззаветно служить добру и братской любви.
Еще из раздела Зарубежная литература:
- Контрольная работа: Жизнь и творческая деятельность Константина Симонова
- Реферат: Асаблівасці літаратурнага творы
- Реферат: Подтекст как способ воплощения авторского замысла в творчестве А.П. Чехова
- Реферат: Комедия
- Реферат: Философия Альбера Камю
- Курсовая работа: Література Австралії
- Сочинение: Поэты в Отечественной войне 1812 г
- Достоевский: Идиот
- Раны, укусы
- Предмет общения и средства общения
- Современные технологии производства резервуарных металлоконструкций
- Право обвиняемого на защиту и его соотношение с презумпцией невиновности
- Микроспория волосистой части головы. Стрептококковое импетиго
- Страны ОПЕК
- Залог как способ обеспечения исполнения обязательств
- Проверка основных средств и нематериальных активов при проведении аудита
- Проблемы формирования инвестиционной политики Новосибирской области